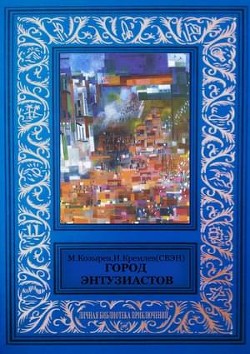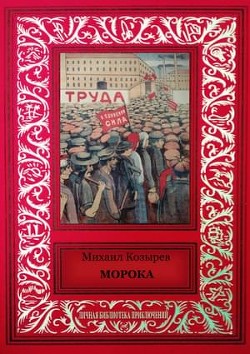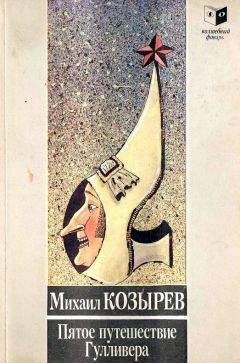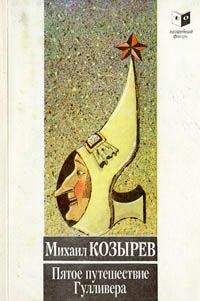– Товарищи, – сказал он – мы должны почтить виновника торжества нашего уважаемого, – он наклонился в сторону Боброва. – Когда он в первый раз пришел ко мне со своим проектом, я, признаться, подумал – Сволочь какая-нибудь, сорвать хочет – уж ты извини меня, Бобров, из песни слова не выкинешь. А потом вижу…
– Когда же это он увидел-то-а? – шепнул через стол архитектор.
– А потом вижу – парень настоящий, увлекается. Я и сам увлекся: так уж это все замечательно вышло. Выпьем за товарища Боброва, за инициативу, за революционное строительство.
Все смотрели на Боброва. Муся улыбалась ему многообещающей улыбкой, архитектор подмигивал – «Скажи! Ну-ка-скажи».
Бобров сумел ответить так, что, не умаляя своей роли, поставил на первый план заслуги Лукьянова – при чем тот не смог скрыть торжествующей улыбки.
– А впрочем, – закончил он – никто из нас, товарищи, не может присвоить себе этой чести. Нас выдвинули и нам поручили дело и нас толкали они – настоящие хозяева нашей жизни. За строителей социализма – за пролетариат.
Дальше, как водится, говорили все и обо всех, не забыли даже об Алафертове и скромном Метчикове, которые имели если не такие очевидные, то все же и неоспоримые заслуги. Муся во время ужина заботилась о том, чтобы никто не был обойден ее вниманием, как хозяйки дома. Она поговорила и с Ратцелем, и с архитектором, и даже с Ерофеевым, который, подвыпив, не прочь был подурачиться и несколько раз пытался обнять ее, но она каждый раз умела ускользнуть от объятий. Бобров следил за Мусей и чувствовал, что все улыбки, все слова, с которыми она обращается к другим, принадлежат только ему одному, как ему одному принадлежит ее белое платье и открытые этим платьем плечи и несколько полные белые руки. Она старалась сама поддержать в нем это чувство, то и дело взглядывая на него через плечи других с особенной многообещающей улыбкой.
После ужина начались неофициальные разговоры. Лукьянов громко рассказывал о своих военных подвигах и удивительных случаях фронтовой и революционной жизни. Ерофеев – о своих похождениях в молодости, когда ему вздумалось почудить и он ушел из богатого родительского дома бурлачить на Волгу. Ратцель – о каких-то планах, которые позволят безошибочно предусматривать самые неожиданные конъектуры. Архитектор в углу уламывал Метчикова, стараясь, вероятно, внушить ему одну из своих теорий, которыми он так любил удивлять свежих людей и которым сам никогда не следовал в жизни.
Ерофеев подошел к Боброву и сказал:
– А ведь все-таки сознайся, что авантюра.
– Что авантюра?
– А вот все это ваше дельце, а? Ведь это вы Плешки ну слободу спалили.
Бобров отшатнулся и удивленно посмотрел на бородача.
– И не стыдно вам.
– Что ты, что ты. Я ведь сам это люблю. Размах-то какой. Широта! А ведь я тоже, признаться, сначала подумывал, что ты просто сорвать хочешь. А ты ведь строишь. Молодец!
* * *
Весь последовавший за закладкой городка день Юрий Степанович только и жил одной мыслью – как можно скорее, сейчас, немедленно видеть Мусю. Может быть, вам это покажется невероятным, но директор грандиозной постройки, автор необыкновенного по смелости проекта, в тот самый день, когда осуществление началось, когда он получил возможность вдоволь насытить и чувство тщеславия и чувство власти, которые глубоко коренятся в существе каждого человека, а такого человека, как Бобров, коренятся в особенности глубоко, следил больше за стрелками своих часов, чем за работой вверенного ему и гораздо более сложного, чем часы, аппарата.
Но напрасно следил он за стрелками – аппарат постройки так крепко взял нашего героя, включив его в размеренно быстрый ход свой, что даже движение стрелки часов вовсе не приблизило для него минуту долго ожидаемого им свидания. Надо сказать, что Юрий Степанович в этом аппарате играл ту же роль, что стрелка в часовом механизме, а именно – был наиболее видной и в то же время наиболее подчиненной частью. Он должен был находиться в движении до тех пор, пока будто бы подвластный ему аппарат не прекращал своего движения.
Контора постройки помещалась теперь не в квартирке из двух небольших комнат, а временно заняла здание городского театра, закрытого на летний сезон. В зрительном зале, в ложах, на галерке и в амфитеатре стрекотали машинки, выстукивая ведомости, сметы, проекты, отчеты и счета, толпились пришедшие наниматься строители – плотники, каменщики, маляры, поставщики и подрядчики осаждали кабинет Юрия Степановича, соблазняя его выгоднейшими предложениями, конторщики и делопроизводители и счетоводы стремились здесь же найти применение своим силам и тоже осаждали кабинет Юрия Степановича – и, наконец, безвестные изобретатели тут надеялись получить возможность осуществить кажущиеся им такими необыкновенными изобретения.
Совершенно напрасно некоторые из наших сограждан обвиняют нас в отсутствии духа изобретательности и инициативы: в чем другом – в изобретателях у нас никогда не было недостатка. Стоило только первому плотнику ударить топором по бревну, и вот уже несколько человек принесли изобретенные ими топоры, которые, по словам изобретателей, могут работать без всякой затраты сил, единственно с помощью остроумия заложенной в них идеи. Стоило только первому землекопу появиться на территории рабочего городка – и вот уже десяток механических лопат ждут признания и применения в жизни. А проекты замены дерева соломой и глиной, а комбинированная мебель, объединяющая в одно очень громоздкое и неудобное целое и кровать, и стол, и керосиновую кухню. А сколько еще таких изобретений и проектов, о самой возможности которых трудно и додуматься – самодвижущаяся повозка, оказывающаяся обыкновенным, по очень первобытной конструкции велосипедом, самогонный аппарат, который, но словам изобретателя, может заменить в иных случаях более дорогостоящие двигатели, и, наконец, взрывчатое вещество, которое можно приготовить по идее изобретателя из угля и двух других предметов, продающихся без особого разрешения в каждой аптеке губмедторга.
Все хотели помочь такому необыкновенному делу, как постройка рабочего городка, все хотели приложить, а при случае и погреть свои руки около этого необыкновенного и симпатичного дела, используя все доступные им средства – и страсть руководителя ко всему новому, и его преклонение перед наукой, и лозунг «лицом к деревне», и пролетарское происхождение, и инвалидность как физическую, так равно и духовную.
Юрий Степанович должен был разбираться в качествах людей и их предложений, в ценности принадлежавших им проектов, должен был, чтобы окончательно не потерять свою репутацию, каждого принять, с каждым поговорить, каждого обнадежить.
А как откажешь в приеме тем многочисленным лицам, которые приходили с письмами, записками и записочками от всех и тоже многочисленных лиц, которые так или иначе содействовали постройке. Подрядчики от товарища Ерофеева, за которых тот ручался, бухгалтера и статистики от товарища Ратцеля, молодые люди от профсоюза и комсомола, более или менее ответственные товарищи, направляемые на постройку губкомом – и барышни, наконец, направляемые отовсюду и ото всех. Эта разнообразная толпа отняла у Юрия Степановича весь день и захватила даже часть вечера, а там настоящие дела – разговор с архитектором о постройке, с Метчиковым об условиях найма рабочих и о жилищах для нанятых на работу строителей.
Только часам к семи Юрий Степанович чувствовал себя свободным от дел. Первым его движением было взяться за телефонную трубку.
– Марья Николаевна дома?
– Они с утра ушедчи. Кто спрашивает?
– Когда же она будет?
– Ничего не сказали.
Этого Юрий Степанович не ожидал.
Ему казалось, что и она должна весь день думать только о нем, ждать его, следить за стрелкой часов с таким же напряжением, с каким следил он – и вдруг ее с утра нет дома.
Только в десять часов звонок и слабый голос Муси.
– Мне нездоровится. Если вам не будет скучно с больной – приходите.